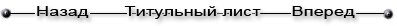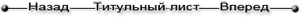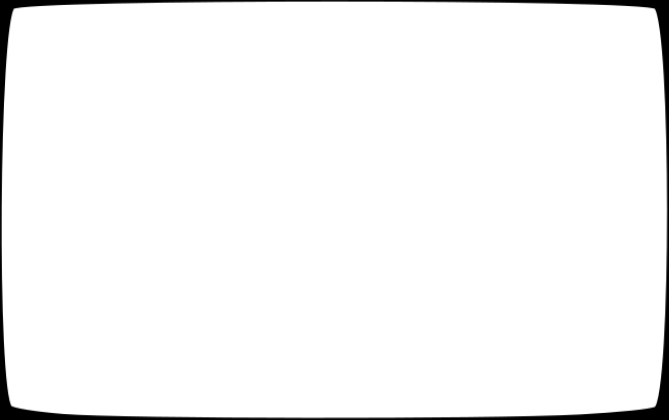
Об источниковедении
Мне кажется, что тайна воплощения и все другие преимущества, дарованные Богом человеку, не исключают возможности того, что Он мог даровать бесконечное множество других, весьма значительных, благ бесконечному множеству прочих созданий. И, даже не делая из этого вывода о возможности существования разумных существ на звездах или где-либо еще, я всё же не вижу никаких оснований для доказательства их отсутствия; но я всегда оставляю эти вопросы, единожды поставленные, под сомнением, предпочитая ничего не отрицать и не утверждать.
Рене Декарт,
из письма Гектору Шоню, 1647
Если вам когда-либо приходилось общаться с физиком-теоретиком, интересоваться хотя бы в самых общих чертах, чем он занят, то вы наверняка почувствовали, что одна из главных его задач — конструирование миров. Из легкой материи математических уравнений теоретик строит свои невообразимые модели, предлагает свои варианты скрытых от нас деталей физической реальности, пытается нарисовать то, что увидеть пока невозможно.
к.п.н. Р.А. Сворень,Проектируется машина времени
Наука и жизнь
, 1990, №2
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas.
Публий Вергилий Марон
Настоящая статья представляет собой вторую часть работы, посвященной методологии исследования вселенной Звездных войн
с диегетических позиций. Если в первой части мы рассмотрели историографию вопроса и предложили собственную периодизацию борьбы различных течений в фандоме, то здесь мы намерены в общих чертах обрисовать практические пути применения источниковедческих методов к диегетическим исследованиям. Однако, прежде чем приступить к непосредственному изложению предлагаемых нами методик, представляется целесообразным бросить более умозрительный взгляд на саму проблему исследований франшизы с внутривселенской
перспективы, вне рамок, накладываемых традиционными литературоведческими и медиаведческими подходами, т.е. в конечном счете обосновать допустимость рассмотрения вселенной Звездных войн
как реально существующей.
Сложность поднимаемой темы усугубляется тем фактом, что любые дискуссии о методологии исследования вселенной Звездных войн
давно и прочно уведены в сторону ошибочными нарративами, связанными с постулируемой важностью определения жанровой принадлежности всей вымышленной вселенной или отдельных ее произведений, обсуждениями замыслов и намерений Джорджа Лукаса (т.е. попытками исследователей
удаленно копаться в его мозгу, выдавая собственное прочтение Лукаса как истину в последней инстанции) и бесконечными спорами о примате визуальных свидетельств над диалогами (и наоборот). Даже такие полезные служебные инструменты как пресловутая лестница канона
всех источников Расширенной вселенной давно превратилась для многих в механизм слепого диктата. Иными словами, вместо обсуждения того, что есть канон и как следует его изучать, исследователи оказались погружены в споры о частностях, интересных разве что литературоведам.
Начать, вероятно, нам придется ab ovo, то есть с теории возможных миров. Многие люди, узнав, что их знакомый погружен в изучение мира какой-нибудь вымышленной вселенной, приходят в недоумение: а зачем вообще тратить на это время? Ведь вымышленных вселенных не существует и, к тому же, за это не платят денег. Однако, как должно быть хорошо известно любому мало-мальски знакомому с общим курсом философии, концепция самодостаточных, но несуществующих систем, именуемых возможными мирами
, вполне знакома современной науке.
1. De mundis possibilibus
Сам термин возможные миры
восходит к трудам Готфрида Вильгельма Лейбница, хотя истоки концепции можно проследить как минимум у Рене Декарта[1]. По Лейбницу существующий действительный мир — один из бесконечного числа возможных миров, которые могли бы существовать. Из этого Лейбниц выводил свою защиту акта творения: прежде чем приступить к сотворению мира Бог созерцал все возможности, выбрав для актуализации лучшую из них. Таким образом, несмотря на наличие зла, наш мир по Лейбницу является лучшим из возможных. Данная мысль сыграла важную роль в развитии западной философии и теологии, однако детальное изложение взглядов Лейбница не входит в задачи настоящей статьи; нас прежде всего интересует онтологический статус возможных миров. Мир (mundus) по Лейбницу — цепь состояний упорядоченного множества монад[2], пребывающих в прошлом, настоящем и будущем в состоянии предустановленной гармонии, т.е. мир — это универсальная гармоничная система, устроенная Богом при помощи некоторого числа законов, вполне доступных постижению людьми. При этом лишь наш мир является по Лейбницу реальным. Все прочие возможные миры существовали лишь в уме Бога, не будучи актуализированными им в своей бесконечной благости и являясь своего рода потенциальными комбинациями монадных состояний. Несмотря на некоторую ограниченность такого подхода для целей нашей работы (Лейбниц, в конце концов, ничего не говорил о возможности научного изучения возможных, но не актуализированных миров), нельзя не увидеть здесь зарождение концептуальных предпосылок будущей семантики модальностей, позволяющую перебросить мост от Лейбница к представителям аналитической школы XX века.
Следующим важным этапом развития теории возможных миров стали работы Алексиуса Майнонга Риттера фон Хандшухсгейма, не занимавшегося проблематикой возможных миров напрямую, однако косвенно оказавшего значительное влияние на развитие ранней аналитической философии. Опираясь на концепцию представлений в себе
[3] и беспредметных представлений
Бернарда Больцано[4] и теорию интенциональности[5] Франца Брентано, Майнонг сформулировал собственную теорию предметов. По Майнонгу предмет — это всё, что может являться предметом человеческой мысли. Предметы бывают возможными и невозможными, а возможные предметы подразделяются еще на существующие и несуществующие. Классическими примерами подобных мыслимых предметов, приводимыми самим Майнонгом, являются золотая гора
и круглый квадрат
. Золотая гора — это несуществующий возможный предмет (поскольку он мог бы существовать при определенных возможных условиях). Круглый квадрат — это несуществующий невозможный предмет (в отличие от золотой горы он просто не может существовать). В отличие от Лейбница, считавшего, что вымышленные миры не существуют в реальности, Майнонг полагал, что даже несуществующие предметы обладают некоей формой или сортом
бытия, поскольку мы способны о них мыслить и их представлять. Эту форму бытия он назвал так-бытием
(Sosein), что мы рассматриваем как фундаментальный шаг на пути осмысления вымышленных миров и их изучения.
Такой подход вызвал жаркие дебаты, вылившись в полемику Майнонга с Бертраном Расселом[6], находившим, что наделение несуществующих предметов формой бытия нарушает закон непротиворечия (поскольку майнонговский круглый квадрат
должен одновременно обладать свойствами быть круглым и быть квадратом, а существующая золотая гора
— свойствами быть горой, состоять из золота и существовать) и в целом рассматривавшим вымышленные миры как имитации, лишенные собственной онтологии и собственного существования. Рассел отверг майнонговское так-бытие
под предлогом невозможности существования несуществующих в реальности предметов, предложив вместо этого собственную теорию дескрипций, позволявшую говорить и анализировать несуществующие предметы без допущения, что оные обладают какой-либо формой бытия. Однако ученики и продолжатели Майнонга не приняли расселовский редукционизм, справедливо возражая, что, хотя расселовский анализ и устранял из онтологии несуществующие предметы, фактически мы продолжали их мыслить и о них говорить, делая это вполне различимым образом. Более того, если теория дескрипций худо-бедно была применима к определенным дескрипциям (definite descriptions), она категорически не работала с вымышленными персонажами, объектами художественной литературы и математическими абстракциями. Иными словами, без допущения существования несуществующих предметов было невозможно объяснить работу человеческого воображения и невозможно было проводить сравнения между вымышленными персонажами.
Логико-методологические трудности и внутренняя критика вкупе с пониманием ограниченности как майнонговской, так и расселовской онтологии привели к довольно интересному результату: неопозитивизм стал повсеместно сдавать свои позиции, уступая место новому аналитическому направлению в философии. Логический позитивизм с его радикальным эмпиризмом, верификационизмом и семантическим формализмом, опиравшийся на раннего Людвига Витгенштейна, и убежденный в собственной способности очистить
философию от метафизических иллюзий, стал терять влияние. Возникшее же после крушения неопозитивизма аналитическое направление отказалось от прежнего антиметафизического пафоса, обернувшись в итоге созданием своего рода материалистической метафизики, объединившей логический инструментарий с онтологическим реализмом. В трудах представителей поздней аналитической школы Саула Крипке, Яакко Хинтикки и Дэвида Льюиса наблюдается уже достаточно сбалансированный подход, учитывающий как проблемы, поднятые майнонговской онтологией, так и расселовскую критику оных, и избегающий при этом крайностей обоих. Эти философы-аналитики, работавшие в парадигме модальной логики, стали широко использовать концепт вымышленных миров для формулирования семантики модальных оценок[7] возможности, необходимости и невозможности. В работах Д. Льюиса вымышленные миры стали важным элементом онтологии, позволяющей избежать введения в нашу реальность безбытийных предметов
путем воображения возможных миров, в которых такие предметы реально существовали бы, изолированно от нашего актуального мира, а также основой метафизической концепции модального реализма. Фактически, Льюис отказывается от рассуждений о несуществующих предметах, заменяя их реальными предметами, возможными в других возможных мирах, отличных от нашего (в этом Льюис идет гораздо дальше Крипке, для которого вымышленные миры были не более чем семантическими инструментами).
Сам Д. Льюис сформулировал основу своей онтологической концепции следующим образом:
Модальный реализм утверждает, что наш мир — лишь один из многих. Существует бесчисленное множество других миров... Наш мир состоит из нас и всего нашего окружения, как бы оно ни было удалено во времени и пространстве друг от друга; мы можем мыслить это как одно большое нечто, состоящее из меньших вещей как [своих] частей. Миры можно иногда уподобить далеким планетам; за исключением того, что большинство из них гораздо больше, чем просто планеты, и они не удалены. Но также они и не близки. Они вообще не находятся на каком-то пространственном расстоянии отсюда. Они не находятся где-то далеко в прошлом или будущем, и, уж конечно, они не находятся на каком-то временном расстоянии от нашего мира и текущего момента [реальности]. Они изолированы: между предметами, принадлежащими разным мирам, вообще нет никаких пространственно-временных отношений. И ничто из того, что происходит в одном мире, не вызывает каких-либо событий в другом. Миры не пересекаются: у них нет общих частей, за исключением, пожалуй, имманентных универсалий, реализующих свою характерную привилегию повторяться
[8].
Следуя логике Д. Льюиса, мы, таким образом, можем представить галактику Звездных войн
как один из множества миров. В этом возможном мире существует Далекая-далекая галактика (иногда именуемая галактикой Небесной реки[9]), но одновременно в нем существует и аналог нашей Земли со всем ее населением, и существует свой аналог[10] Джорджа Лукаса, получившего каким-то способом информацию о Небесной реке. Поскольку возможные миры по Льюису также реальны, как и наш мир, и поскольку элементы каждого из возможных миров объединены пространственно-временными взаимосвязями, мы можем трактовать галактику Звездных войн
как онтологически возможную реальность, поддающуюся когнитивному исследованию: путем применения эмпиризма и абдукции, построения моделей, реконструкции внутренней логики и выявления закономерностей — так, как это делается в отношении любых сложных систем.
Хорошо, скажет читатель, допустим, подобный подход действительно может оказаться полезным для изучения Звездных войн
(коль скоро вы уже являетесь фанатом этого сеттинга и это никак не изменить). Но в чем преимущество вашего подхода перед привычными литературоведческими методами? Разве не очевидно, что все материалы по Звездным войнам
имеют своих авторов? И разве при изучении данных материалов не следует пытаться понять, что именно пытались донести авторы до своих читателей/зрителей, анализируя произведения через призму авторских интенций и историко-культурного контекста? Наш ответ таков: подход, основанный на модальном реализме и теориях вымышленных миров, позволяет выйти за рамки сугубо биографического и историко-культурного анализа, рассматривая произведения как автономные системы, обладающие собственной внутренней логикой и онтологическим статусом. Это открывает возможности для более глубокого когнитивного и философского исследования: мы можем моделировать вымышленные миры, выявлять устойчивые закономерности, анализировать отношения между их элементами и даже сравнивать разные миры между собой. Такой подход расширяет поле исследования, позволяя воспринимать вымышленное не просто как отражение
реальности или авторской мысли, а как самостоятельный объект познания. Во многом именно такой подход был сформулирован румынским литературоведом и критиком Томасом Павлом в фундаментальной работе Fictional Worlds, предложившим рассматривать вымышленные миры как автономные когнитивные объекты с собственной внутренней структурой и целостностью, логикой и причинно-следственными связями, воспринимаемыми и интерпретируемыми в соответствии с правилами и законами, специфическими для конкретного мира и сеттинга.
Конечно, несмотря на наши объяснения, некоторым читателям предлагаемая перспектива может показаться непривычной. Да
, — скажут они, — мы понимаем, зачем вы это делаете, но всерьез рассуждать о реальности
. На помощь такому скептику придет старый-добрый принцип подавления недоверия и концепция Звездных войн
? Это же просто глупые фильмы, книжки и комиксы для подростковигры в представления
(make-believe)[11], разработанная Кендалом Уолтоном. Еще Цицерон выделял три основные задачи оратора — убедить (docere), усладить (delectare) и увлечь (movere) слушателей — и именно в этом триединстве успешно проявляется потенциал мимесиса[12] в интерпретации Уолтона. Восприятие художественного произведения по Уолтону — сознательная игра воображения, в рамках которой зритель/читатель/слушатель временно принимает вымышленный мир как реальный, что создает эффект глубокой когнитивной и эмоциональной вовлеченности. Так реализуется задача docere: мимесис формирует когнитивную модель, позволяющую осмысливать вымышленную реальность, извлекая из нее смыслы и делая выводы. Задача delectare достигается через удовольствие от участия в вымышленной реальности, а movere — через эмоциональное сопереживание персонажам и ситуациям. Таким образом, игра в представления
не только оправдывает интерес к вымышленным мирам, но и делает их значимыми сразу с нескольких точек зрения — когнитивной, эстетической и этической. Можно сказать, что, мысленно принимая вымышленный сеттинг как реальный, мы тем самым упрощаем и углубляем его аналитическое осмысление. Любой же экстрадиегетический подход, сосредоточенный прежде всего на авторских интенциях и том контексте, в котором было создано произведение, в конечном счете сведет анализ к попыткам интерпретации внешних идеологических, политических и социально-культурных влияний и веяний, подменяя внутреннюю логику вымышленного мира оценкой актуальной земной
повестки.
2. De fontibus eorumque studiis
Итак, коль скоро мы рассматриваем вселенную Звездных войн
как возможный мир в духе модальной онтологии, то тем самым мы допускаем его онтологическую реальность (пускай и не актуализированную). Мы осознаем, что в рамках внутреннего времени этой вселенной разворачивается ее внутренняя история, и мы помним о том, что Джордж Лукас при таком аналитическом подходе выступает не как творец и автор данной вселенной, но ее исследователь, открывший и задокументировавший уже существовавшую некогда (давным-давно
) реальность. В этом мы следуем методу, предложенному Д.О. Виноходовым для диегетических исследований Арды (вселенной, созданной проф. Толкином):
Те, кто используют исторический подход, в процессе своих рассуждений абстрагируются от факта принадлежности авторства работ, повествующих об Арде, Дж. Р. Р. Толкину, истолковывая эти тексты, как некие квазиисторические документы, чудом сохранившиеся в течение многих веков и описывающие события, произошедшие в далеком прошлом. Соответственным образом эти тексты и анализируют, сопоставляя описания одних и тех же событий в разных источниках, вычленяя наиболее непротиворечивые версии, устанавливая хронологическую последовательность исторического процесса в Арде и реконструируя
[13].темные
периоды ее истории. При этом роль Дж. Р. Р. Толкина ограничивают функциями первооткрывателя, переводчика, интерпретатора и комментатора всех этих документов и постулируют аутентичность последних
Предлагаемый нами подход к диегетическому изучению вселенной Звездных войн
требует от читателя понимания некоторых базовых основ современной источниковедческой методологии. Поскольку материалы вымышленной вселенной Звездных войн
мы будем условно рассматривать в качестве исторических источников, логично будет обратиться к базовым принципам, на которых строится изучение реальной истории, проведя своего рода экскурс для непосвященных. Итак, в чем же заключается вообще задача истории? В разные эпохи акцент смещался то на её дидактическую, то на морально-воспитательную функцию[14]. Однако Людвиг фон Ранке, один из основоположников современного источниковедения, в своем фундаментальном труде История романских и германских народов с 1494 до 1535 гг.
решительно отстранился от подобных подходов, с долей иронии заявив следующее:
История возложила на себя задачу судить о прошлом, давать уроки настоящему на благо грядущих веков. На эти высокие цели данная работа не претендует. Ее задача — лишь показать, как все происходило на самом деле
[15].
Однако задача показать, как всё было на самом деле
оказалась вовсе не такой простой, как это могло бы показаться. Проблемой стала сама специфика объекта исторического познания: ведь в отличие от точных наук, где объект исследования не наделён волей и не пытается повлиять на интерпретатора, в гуманитарных науках исследователь имеет дело с людьми — индивидуумами и сообществами, обладающими интересами, мотивацией, политическими целями и, зачастую, намерением влиять на образ будущего и образ самих себя в этом будущем. Объектом исторических исследований является прошлое человечества и отдельных его компонентов (вплоть до индивидов), но каждый индивид представляет собой сложную личность, обладающую набором собственных интересов, установок и предубеждений. Также своей волей, пускай и в более распыленной форме, обладают и человеческие сообщества — от малых групп до сословий, государств и союзов. Иными словами, как отмечал еще А.С. Лаппо-Данилевский, исторический источник представляет собой не зеркальное отражение прошлого, а лишь определенным образом зафиксированную информацию, созданную в конкретных условиях и с конкретной целью[16]. Являясь результатом человеческого творчества и будучи продуктом человеческой психики, источник всегда имеет своего автора или коллектив авторов. Всё это делает любые исторические источники изначально субъективными — в них неизбежно присутствуют интерпретации, допущения, позиции, взгляды, предвзятости, замалчивания и т.д. В той или иной форме это осознается всеми серьезными исследователями, однако по какой-то причине на данном нюансе стараются не акцентировать излишнего внимания.
Яркий пример, знакомый, наверное, даже школьникам, дает нам битва при Кадеше в конце XIV — начале XIII вв. до Р.Х., где столкнулись армии фараона Рамсеса Великого и хеттского царя Муваталли II. Долгое время события этого сражения были известны нам исключительно по древнеегипетским памятникам, воспевавшим блистательную победу фараона. Правда, существовала небольшая проблема: дошедший до нас египетско-хеттский мирный договор (обнаруженный еще Ж.-Ф. Шампольоном), положивший конец войне, носил подозрительно невыгодный для Египта характер, признавая сюзеренитет хеттов над спорными княжествами и городами-государствами Сирии и северного Леванта. Лишь после раскопок Гуго Винклера в начале XX в. и дешифровки хеттского языка Фридрихом Грозным нам стала известна альтернативная точка зрения. Хеттские источники утверждали, что египетское войско при Кадеше было наголову разгромлено, а сам Рамсес Великий чудом спасся бегством. Какова современная оценка, даваемая историками древнему сражению? Она спорна. Ввиду прочного господства египтологической мафии
в университетах доходит до смешного, когда провальный для египтян Кадеш порой именуют тактической победой Египта
.
Таким образом, поскольку исторические источники по своему определению субъективны, сама историческая реконструкция также всегда несет на себе отпечаток субъективности, проявляемой как в подборе источников, так и в их интерпретации исследователем[17]. Это ключевое методологическое наблюдение сохраняет свою актуальность и при анализе вымышленных миров — особенно если мы рассматриваем их как когерентные, внутренне непротиворечивые реальности, способные быть объектом научного исследования. Как остроумно отмечает Д.Е. Галковский, из-за присущей гуманитарным наукам природы неопределённости, множественности версий и борьбы интерпретаций, историк архетипически предстаёт в роли следователя, а само историческое исследование становится подобием следствия. Он пишет:
Историк это и есть следователь. Точнее, следователь — это разновидность историка-прикладника. Ему важно восстановить реальную историю преступления. При этом главный участник истории, её
[18].автор
не только не помогает восстановлению истины, но ведёт свою контригру. Собственно, идеальное следствие — это борьба двух историков. Точнее, историка с археологом. Историк изначально и был следователем и история, как наука, могла появиться только в обществе, где уже есть официальный сыск... Первый этап работы следователя — выдвижение правдоподобных версий произошедшего. И параллельно — стирание из сознания нарисованных картинок
, не имеющих никакого отношения к реальности
Такая аналогия становится особенно продуктивной, если применить ее к диегетическому анализу возможных миров. Внутри таких вселенных, как Звездные войны
или Арда, история
тоже подаётся через субъективные, неполные и порой противоречивые источники. Таким образом, исследователь вымышленной истории оказывается в той же позиции: он восстанавливает возможную версию произошедшего, отсекая нарисованные картинки
(многослойные интерпретации, авторские правки, канонические сдвиги и редакционные вмешательства) в попытке добраться до внутренней достоверности событийного ряда. Даже в пределах онтологии вымышленного мира возможно стремление к внутренней достоверности — пусть и с осознанием условности любой реконструкции.
Мысль Д.Е. Галковского о следователе-историке находит неожиданное концептуальное перекрестие с образом историка у Поля Рикёра, представленном в первом томе Времени и рассказа
. Если Галковский делает акцент на состязательности реконструкций, то Рикёр рассматривает работу историка как попытку отделить объяснение от самой ткани нарратива и вывести его в отдельную, рационально осмысляемую плоскость. Он пишет:
Даже если допустить... что нарратив
[19].само-объяснителен
, история-наука выделяет из его ткани процесс объяснения и возводит его в ранг отдельной проблематики. Это не значит, что нарратив совершенно не знает формы почему
и потому что
; но его связи остаются имманентными построению интриги. Благодаря историку форма объяснения приобретает автономность; она становится отчетливо выраженной целью процесса установления достоверности и обоснования. В этом плане историк находится в положении судьи: он попадает в реальную или потенциальную ситуацию оспаривания и пытается доказать, что определенное объяснение лучше какого-либо другого
Таким образом, любое историческое изложение представляет собой акт нарративной медиализации прошлого — оно неизбежно структурируется по законам нарратива. В схожем ключе рассуждал и Хейден Уайт, утверждавший, что историческое знание не может быть отделено от риторических и литературных форм его выражения: по его мнению, историк не столько находит, сколько выстраивает
прошлое в процессе рассказа о нем. Историк, работающий с вымышленным миром, оказывается в том же положении: он выстраивает аргументированное объяснение, претендующее на внутреннюю достоверность, несмотря на фрагментарность и конфликтность доступных ему источников.
Принимая предложенные Д.Е. Галковским и П. Рикёром аналогии и перенося их в контекст исследования вымышленных миров, мы видим, как они обретают новую значимость. Внутри трансмедийных вселенных[20] исследователь неминуемо сталкивается не просто с хаосом разрозненных сведений, а с системой, в которой сама история многократно переписывалась, ретушировалась и порой — намеренно искажалась. Здесь следователь-историк ведёт работу не с живым прошлым
, а с представлениями о нём, закодированными в разнокалиберных источниках — фильмах, книгах, комиксах, справочниках, интервью, и даже маркетинговых материалах. Некоторые из них противоречат друг другу, другие — создают альтернативные версии одного и того же события. Реконструкция подлинных
событий, таким образом, превращается в попытку обнаружить внутренне непротиворечивую версию диегетической истории, вычленить ее из белого шума интерпретаций, авторских правок и ретконов. Исследователь диегетической истории Звездных войн
находится в положении государственного историка, работающего в условиях жесткой идеологической цензуры, утраты (или сознательного сокрытия) документов и множественных фальсификаций. Его задача — не столько воссоздание реального прошлого, того, что произошло в действительности, по Л. Ранке (ибо оно в рамках вымышленного мира, онтологически недостижимо), сколько реконструкция наиболее связного, обоснованного и внутренне непротиворечивого представления о нем с опорой на критический анализ источников, стратификацию версий и понимание внутренней логики вымышленной вселенной.
Определившись с основными параметрами работы историка и осознав ту бездну субъективизма, в которую он вынужден погрузиться (недаром Б. Кроче учил, что всякая история — есть история современности, tutta la storia è storia contemporanea, подразумевая под этим, что историк всегда интерпретирует прошлое с точки зрения настоящего), мы приходим к пониманию одной из основных задач источниковедения — установления степени достоверности исторических материалов посредством критики исторических источников. Традиционная методология опирается на два основных вида критики — внешнюю и внутреннюю. Внешняя критика направлена на проверку подлинности, происхождения и авторства источника, а также на анализ его физического носителя и формальных характеристик. На этом этапе историк должен установить происхождение и авторство источника, удостовериться в его подлинности и отсутствии подлогов. Внутренняя же критика сосредоточена на содержательном анализе: выявлении авторских позиций, оценке логики изложения, сопоставлении различных источников для обнаружения противоречий и т.д.
Однако при переносе этих классических методов на изучение материалов вымышленных миров, таких как вселенная Звездных войн
, необходимо учитывать специфику исследуемого объекта. Поскольку источники
в данном случае существуют лишь как нарративные конструкции, лишенные реального материального воплощения и внешне-исторической контекстуализации, применение методов внешней критики становится невозможным. Здесь вступает в силу понятие диегезиса — термина, восходящего к нарративной теории и обозначающего внутренний мир, создаваемый текстом, то есть ту реальность, в рамках которой действуют персонажи, разворачиваются события и функционируют законы вымышленной вселенной. В диегетическом пространстве каждый элемент нарратива — будь то текст, артефакт или хроника — рассматривается не как внешний источник, а как внутренняя часть самоконструирующейся реальности, принимаемой исследователем в рамках условной, но логически непротиворечивой системы координат.
С этой позиции, исследователь, работающий с вымышленной вселенной, оказывается в положении ученого, который не ставит ежесекундно под сомнение само существование объектов вне собственного сознания — не потому, что он убежден в их объективности, а потому, что иное поставило бы под угрозу саму возможность осмысленного анализа. В рамках нашей интеллектуальной игры мы вынуждены условно постулировать подлинность предлагаемых нам для анализа материалов, принимая их онтологическую достоверность
в пределах заданной нарративной логики, поскольку в противном случае любая попытка диегетического анализа оказалась бы тщетной (если мы сомневаемся в подлинности Журнала уиллов
и сообщаемых им сведений, значит мы ставим под сомнение само существование Анакина и Люка Скайуокеров, Галактической Империи, Восстания и т.д.). Иными словами, диегетический анализ требует не внешней верификации источников, а внутренней когерентности и реконструкции смысловых слоев, идеологических посылов и нарративных стратегий, работающих в пределах этого сконструированного мира. Такой сдвиг в парадигме заставляет исследователя принять своего рода соглашение о допущении
— т.е. согласиться с правилами и законами вымышленного мира, аналогично тому, как это происходит в ролевых играх или литературной теории, где участники или читатели соглашаются на временное принятие вымышленных условий для полноценного погружения и анализа. Именно это соглашение позволяет сосредоточиться не на внешней аутентичности источников, а на их внутренней когерентности и согласованности внутри диегезиса.
Гиперкритицизм оборачивается здесь заведомой неудачей: чрезмерный скептицизм по отношению к диегетическим материалам разрушает возможность самого анализа, делая невозможным конструирование связного повествования внутри вымышленной вселенной. Тем не менее внутренняя критика сохраняет свою фундаментальную значимость, позволяя выявлять внутренние особенности текстов, распознавать идеологические установки авторов и редакторов, анализировать конфликтующие версии и реконструировать сложный многослойный нарратив. Адаптация классических методов источниковедения к диегетическому анализу требует дифференцированного подхода — отказа от применения некоторых внешних процедур и усиления роли внутренней критики как ключевого инструмента для изучения квазиисторических нарративов. Только в балансе между условным принятием и критическим анализом возможно выстроить осмысленное и внутренне согласованное понимание историй вымышленных миров.
3. De fontibus fabularum ac de Codice Willowensi
Igitur, рассмотрев основы концепции вымышленных миров, позволяющей нам проводить диегетический анализ вселенной Звездных войн
, а также обозначив наше отношение к источниковедению и соответствующим методам, мы подошли к ключевому этапу исследования. Пришло время для ответа на главные вопросы. Мы собираемся далее определить первоисточник всей диегетической информации о Звёздных войнах
, реконструировать историю его обретения, исследовать взаимосвязи с производными источниками и представить собственную классификацию всех материалов (тех самых fontes fabularum), с которыми может работать диегетический исследователь этой вселенной.
Итак, что представляет собой первоисточник? Это исходный, оригинальный источник информации о событиях, явлениях или персонажах, на котором основе которого формируются наши знания о предмете и осуществляется реконструкция исследуемых процессов. В контексте вселенной Звездных войн
под первоисточником понимается материал, содержащий сведения о самой онтологической сущности данной вымышленной вселенной, формирующий ее нарративную структуру и являющийся основой для всех наших последующих представлений о ней, интерпретаций и концептуальных моделей. Звездным войнам
повезло в этом плане больше, чем многим другим вымышленным мирам: подобно Арде проф. Дж. Р.Р. Толкина мы обладаем привилегией достоверного знания о существовании такого первоисточника и даже располагаем некоторыми фрагментами из него.
Первое из официально опубликованных произведений Звездных войн
, предшествующее даже выходу 4-го эпизода оригинальной трилогии, — роман Звездные войны. Из приключений Люка Скайуокера
за авторством Джорджа Лукаса[21], опубликованный в ноябре 1976 г., открывается следующим предисловием:
Иная галактика, иное время.
[22].
Старая республика была республикой легенд, более великой, чем само пространство и время. Нет нужды указывать, где она возникла и как родилась. Важно лишь то, что это была подлинная Республика.
Когда-то под мудрым руководством сената и защитой рыцарей джедаев Республика росла и процветала. Но как это часто случается, когда богатство и могущество перерастают все мыслимые границы и начинают приводить в трепет, появляются зловещие личности, движимые соразмерной жадностью.
Так случилось и с Республикой в период ее расцвета. Подобно величайшему из деревьев, способному выдержать любые внешние воздействия, Республика гнила изнутри, хотя угроза и не была видна снаружи.
При содействии и подстрекательстве со стороны нетерпеливо жаждущих власти лиц в правительстве и огромных торговых организациях, амбициозный сенатор Палпатин организовал свое избрание на пост президента Республики. Он обещал умиротворить недовольных среди народа и возродить былую славу.
Истребив путем измены и обмана рыцарей джедаев — защитников справедливости в галактике — императорские губернаторы и бюрократы готовились развязать режим террора среди удрученных миров галактики. Многие использовали мощь Империи для удовлетворения своих личных амбиций, действуя от имени всё более изолированного императора.
Но небольшое число систем восстало против множащихся злодеяний. Объявив себя противниками Нового порядка, они начали великую битву за восстановление старой Республики.
С самого начала они намного уступали в численности системам, находившимся в рабстве у императора. В те первые черные дни, казалось, не могло быть сомнений в том, что яркое пламя восстания затухнет до того, как оно успеет пролить свет правды на галактику угнетенных и покоренных народов...
Из Первой саги Журнала уиллов
Так посредством хорошо известного литературоведам приема вставного рассказа или сюжета в сюжете (то, что в нарратологии именуется imbedded narrative) читателя и будущего зрителя знакомят с первоисточником всех наших сведений о Звездных войнах
— таинственным Журналом уиллов
(Journal of the Whills). Именно через этот прием выстраивается метаисторическая рамка, помещающая основной нарратив в контекст более глубокой, квазидокументальной традиции. Как справедливо отмечает Джозеф Бонджорно: ...сплетая для нас нарратив
[23].Звездных войн
, Джордж Лукас рассказывал историю, основанную на событиях далекого прошлого, которые, как давал понять нам роман-новеллизация, были почерпнуты из древнего тома или, возможно, целого тайника древних книг — мистического Журнала уиллов
. Подобно Алой книге Западных пределов
, открытой Толкином, и поведавшей читателям о древнем мире хоббитов, гномов, эльфов и людей, Журнал уиллов
каким-то образом очутился в цепких руках Джорджа Лукаса
Итак, если допустить, что Журнал уиллов
и является искомым первоисточником — исходным нарративным документом, лежащим в основе всей мифологии Небесной реки, а Джордж Лукас выступает в роли первого его исследователя, комментатора и, возможно, переводчика (мы не можем исключать и того, что Журнал уиллов
попал в руки Дж. Лукаса уже переведенным на английский язык), то закономерно встает следующий вопрос: какова могла быть история обретения Журнала уиллов
?
Как ни парадоксально, но и в этом отношении вселенная Звездных войн
оказывается в более привилегированном положении по сравнению с другими вымышленными мирами и их мифологиями — включая даже тщательно проработанный легендариум проф. Толкина. Мы не располагаем сколько-нибудь внятной диегетической версией происхождения знаний о мире Звездного пути
или о мрачной вселенной Warhammer 40,000. Даже в случае Арды происхождение Алой книги Западных пределов
, через которую Толкин, как утверждается, получил сведения о Средиземье, остается туманным. Напротив, в случае со Звездными войнами
у нас есть все основания предполагать, каким образом были получены эти знания: мы располагаем указанием на конкретный текст — Журнал Уиллов
— и можем диегетически реконструировать историю его передачи первому земному исследователю.
В 1999 г. на экраны вышел долгожданный первый эпизод саги о Звездных войнах
— фильм Призрачная угроза
, ознаменовавший начало эпохи приквелов. В отличие от 5-го и 6-го (а во многом и 4-го эпизодов) Джордж Лукас теперь обладал абсолютной творческой свободой и полнотой контроля над производством, имея возможность в полном объеме визуализировать свою историю[24]. В сцене заседания галактического сената (примерно на 89-й минуте хронометража) во время вынесения вотума недоверия канцлера Валоруму внимательный зритель может заметить стоящих на одной из парящих платформ и энергично жестикулирующих трех делегатов, внешне совершенно идентичных существам из фильма Стивена Спилберга Инопланетянин
(1982 г.). Согласно сюжету этой картины, экспедиция этих инопланетян посетила Землю во второй половине XX века, приземлившись в лесах Калифорнии. Один из представителей инопланетной группы оказывается оторванным от своих сородичей и, преследуемый агентами правительства США, переживает череду приключений, пока за ним не возвращаются и не эвакуируют домой.
Примечательно, что во время Хэллоуина ребенок в маске Йоды вызывает у пришельца эффект узнавания: он устремляется к нему, повторяя дом... дом... дом...
(сама сцена при этом сопровождается отрывком из музыкальной темы Йоды из 5-го эпизода Звездных войн
). Подобное художественное решение невозможно считать случайным: оно ясно дает нам понять, что существа из фильма Спилберга — выходцы из галактики Небесной реки. А значит, именно они могли быть теми, кто привез на Землю Журнал уиллов
. Связь пришельцев Спилберга со Звездными войнами
подкрепляется и другими материалами как диегетического, так и экстрадиегетического характера.
Так, среди изображений, покрывавших один из столпов, поддерживавших алтарную сень над местом упокоения ковчега Завета в подземном храме Колодца душ, в фильме Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега
(1981 г.) отчетливо различимы силуэты дроидов Р2Д2 и Ц3ПО (65-66-я минуты хронометража). Их присутствие в священном пространстве древнеегипетского (судя по характеру иероглифов, скульптурам и архитектурным формам) культа не только выходит за рамки традиционного декора, но и работает как нарративный шифр — визуальный маркер, указывающий на возможную древнюю связь между Землей и цивилизациями Небесной реки. Вероятно, к моменту, когда эти символы были оставлены пришельцами (или, по крайней мере, стали известны древним египтянам), мономиф, частью которого выступали двое дроидов, уже прочно укоренился в культурной памяти народов Далекой-далекой галактики. Дополнительным аргументом в пользу этой гипотезы служат вступительные титры ко всем эпизодам саги, неизменно начинающиеся формулой: давным-давно в далекой-далекой галактике
.
В фильме Индиана Джонс и королевство хрустального черепа
(2008 г.) мы видим дополнительные аргументы, подкрепляющие нашу теорию о связях между двумя галактиками. Внутри тронной камеры подземного храма мы видим украшенные майяскими иероглифами престолы, на которых восседают костяки неких инопланетных существ (106-я минута хронометража). На одном из иероглифов без труда опознается пришелец с характерной внешностью, показанной в фильме Инопланетянин
. С экстрадиегетической точки зрения данные свидетельства из франшизы Индиана Джонс
являются всего лишь пасхалками
, адресованными фанатам. Своего рода подмигиваниями со стороны режиссера и сценариста. Однако с диегетической точки зрения — это археонарративные фрагменты, свидетельства глубоких культурных пластов, связывающих галактику Небесной реки с древними земными цивилизациями.
Что же касается диегетических свидетельств, то инородцы, фигурирующие в описанной выше сцене в Призрачной угрозе
, физически идентичные существам из Инопланетянина
, в галактике Небесной реки известны под именем асогийцев (asogians), а их родной мир, расположенный во Внешней Крайне, носит название Бродо-Асоги (Brodo Asogi). Последнее полностью совпадает с информацией из романа Вильяма Коцвинкля I.T.: The Book of the Green Planet, созданного в рамках франшизы Инопланетянин
и основанного на оригинальном сюжете С. Спилберга. Дополнительную значимость данному пересечению придает диегетический выпуск новостей ГолоСети №531-50 от 13:4:4рС, упоминающий о намерении сенатора от Бродо-Асоги по имени Греблипс (анаграмма фамилии Спилберг
) профинансировать экспедицию в другую галактику[25]. По-видимому, результатом именно этой экспедиции и стал первый (но далеко не последний) визит обитателей галактики Небесной реки в галактику Млечный путь.
Итак, определившись с постулированием возможности контакта аналога
(льюисовского counterpart’а) Джорджа Лукаса с асогийцами во время одной из их экспедиций на Землю, мы попытаемся реконструировать обстоятельства данного события и процесса передачи первоисточника. Судя по имеющимся намекам, контакт мог произойти в Калифорнии, предположительно в начале 1970-х гг. Возможно, по завершении основной миссии, впечатленный глубокой увлеченностью землянина мифопоэтическими структурами и архетипическими моделями, один из представителей асогийской экспедиции решился на беспрецедентный шаг — он передал в руки Лукаса некий артефакт, содержавший в себе Журнал уиллов
.
Вероятно, текст мог был быть записан на некий носитель, характерный для цивилизаций Небесной реки. Принимая во внимание все известные нам источники, можно с высокой долей вероятности допустить, что данным носителем был инфокристалл, доступ к которому обеспечивался неким простейшим устройством для чтения. Мы также можем допустить, что структура Журнала уиллов
не ограничивалась текстом: она могла включать аудиовизуальные голограммы, облегчившие впоследствии Дж. Лукасу реконструкцию образов ключевых героев саги, их одеяний, оружия, техники, архитектурных форм и иных элементов культуры.
Не исключено также, что Журнал уиллов
был передан Дж. Лукасу уже в полностью или частично переведенной форме, либо был снабжен устройством автоматического перевода, способным адаптировать текст к ментальным и культурным матрицам земного читателя. При этом отдельные реалии истории Небесной реки могли быть интерпретированы или переосмыслены данным устройством с опорой на аналогии, присутствующие в культуре Земли, — тем самым обеспечивая не буквальный, а концептуально точный перевод, передающий ключевые смыслы, отсылки и структурные мотивы. Такая культурная локализация
(в духе идеи перевода смыслов Джорджа Стайнера) была необходима для того, чтобы незнакомые концепты и категории со всеми их нюансами, отсылками и намеками, лежащие в основе текста первоисточника, стали доступными человеческому восприятию. Отсюда, в частности, проистекает и кажущееся на первый взгляд необъяснимым присутствие в отдельных материалах Звездных войн
латинских слов и фраз, названий букв древнегреческого алфавита и иных элементов, напрямую отсылающих к культурной традиции нашей планеты.
Теперь, когда нам более-менее ясны предполагаемые обстоятельства обретения первоисточника Дж. Лукасом, мы должны предпринять попытку реконструкции внутренней структуры Журнала уиллов
— задачи фундаментальной для всех последующих наших выводов. С учетом характера контакта и глубокой древности событий, описанных в Журнале
(давным-давно
), мы допускаем, что попавший к Дж. Лукасу материал не представлял собой цельный, линейно организованный нарратив, но был фрагментарным, сложносоставным образованием, сочетающим в себе тексты разных жанров, эпох и авторских интенций. Исходя из этого, мы вправе говорить о Журнале уиллов
как о своеобразном кодексе или палимпсесте[26], включающем в себя как исторические хроники и саги, так и метафизические размышления, парадигматические мифы, религиозные фрагменты, этические максимы, а возможно — и фрагменты других, более ранних (или наоборот, поздних) текстов.
Чтобы наш вывод не показался читателям слишком смелым и вместе с тем слабо подкрепленным доказательствами, рассмотрим аргументы в поддержку выдвинутой гипотезы. Как было показано выше, официально опубликованные фрагменты Журнала уиллов
ограничиваются одной-единственной цитатой в романе Звездные войны
. Однако, обратившись к черновым вариантам сценария 4-го эпизода (а, как мы помним, согласно официальной политике компании Lucasfilm, черновики фильмов также являются частью канона), мы обнаруживаем еще один примечательный фрагмент из того же источника:
...И во времена величайшего отчаянья придет спаситель, и он станет известен как СЫН СОЛНЦ
.Журнал уиллов
, 3:127[27].
Данный фрагмент интересен не столько в силу содержащегося в нем отрывка пророчества (о чем мы еще будем говорить далее), сколько в связи с прямой отсылкой к внутренней организации Журнала уиллов
. Обозначение 3:127
может быть интерпретировано по-разному — как 3-я строфа 127-й главы, 3-я глава 127-й книги или иной, более сложный способ навигации по тексту. В любом случае оно недвусмысленно свидетельствует о высокоорганизованной, многоуровневой структуре Журнала уиллов
, что косвенно подтверждает нашу гипотезу о его палимпсестной природе и сложной компилятивной архитектуре.
Косвенным доказательством наличия в Журнале уиллов
множества разнородных материалов служит также следующая цитата самого Джорджа Лукаса из предисловия ко второму изданию романа Осколок ока разума
:
...После выхода
[28].Звездных войн
[мне] стало очевидно, что моя история — сколько бы фильмов ни потребовалось, чтобы ее рассказать — лишь одна из тысяч, которые можно поведать о персонажах, населяющих эту галактику. Но эти истории суждено рассказать не мне. Вместо этого они рождались в воображении других писателей, вдохновлённых отблеском галактики, который дали Звездные войны
Мы полагаем, что в свете предлагаемого нами метода данная цитата может (и должна) быть интерпретирована не просто как метафора творческой преемственности, но как указание на реальную структуру Журнала уиллов
— обширного архива, лишь частично введенного в культурный оборот самим Лукасом. В центре внимания автора находилась конкретная сюжетная линия, связанная с падением Анакина Скайуокера во тьму и его последующем искуплением сыном. Однако сам Журнал уиллов
, по всей видимости, содержит множество других повествовательных пластов, которые либо не представляли интереса для Лукаса, либо остались неразработанными им по каким-то иным причинам.
Такое понимание Журнала уиллов
также позволяет нам по-новому взглянуть на происхождение так называемой Расширенной Вселенной Звездных войн
(Expanded Universe). В рамках предлагаемой нами диегетической модели исследования она представляется не как вторичный продукт творчества сторонних авторов, полностью отделенный от видения Дж. Лукаса, но как реализация иных пластов того же самого первоисточника. Писатели, художники, сценаристы и дизайнеры не создавали свои произведения ex nihilo, но, условно говоря, работали с другими фрагментами того же самого архива, с которым работал и Джордж Лукас. Одним из первых к схожим выводам пришел Джозеф Бонджорно, отмечавший:
Таким образом, принимая историческую концепцию
[29].Звездных войн
, мы принимаем факт существования и наличия в руках Lucasfilm источника, именуемого Журналом уиллов
. Но как, в таком случае, быть с разного рода авторами, создававшими все эти романы, комиксы и игры? Общеизвестно, что всё, от предложения и первого наброска сюжета до готового продукта, проходит через Lucasfilm. Мы понимаем, что с точки зрения реалистичного или литературного подхода к Звездным войнам
как к вымышленной вселенной, это делается для того, чтобы вся выпускаемая продукция соответствовала общему видению Лукаса, а компания Lucasfilm могла бы поддерживать высокий стандарт качества своих продуктов. С точки же зрения исторического подхода к Звездным войнам
это позволяет коллективу Lucasfilm согласовать тексты всех своих авторов с историями, представленными в Журнале уиллов
и других аутентичных исторических источниках ДДГ
Наконец, весьма пространный отрывок из Журнала уиллов
стал известен благодаря писателю Дж. В. Ринцлеру (автору работы The Making of Star Wars), получившему доступ к самому документу и даже сфотографировавшему начало первой его страницы. Приведенный им отрывок, написанный рукой самого Лукаса, гласит:
Это история Мейса Винди, достопочтенного джедая-бенду с Офучи, как ее поведал нам Си-Джей Ѳорп, падаваан-ученик сего прославленного джедая. Я — Чуи-Два Ѳорп Киссельский. Отец мой — Хан Дарделл Ѳорп — был командиром прославленного галактического крейсера
[30].Тарнак
Далее Дж. Ринцлер, к сожалению, частично переходит к пересказу текста вместо его полного цитирования: В возрасте шестнадцати лет Чуи поступил в
.прославленную Межсистемную академию, дабы пройти обучение в качестве потенциального джедая-храмовника
Именно здесь я и стал падавааном-учеником великого Мейса Винди... бывшего в те годы военным владыкой при председателе Альянса независимых систем... некоторые считали, что он был даже могущественнее имперского владыки Галактической империи... по иронии судьбы страх его собственных товарищей... привел к его замене... и изгнанию из рядов королевских войск
[31].
После отставки Винди Чуи умоляет позволить ему остаться на службе пока он не окончит своего обучения
. Эта история находит свое продолжение во второй части [Журнала
]: Четырьмя годами спустя началось наше великое путешествие. Мы охраняли груз портативных термоядерных устройств, которые необходимо было доставить на Явин, когда таинственный курьер от председателя Альянса вызвал нас на пустынную вторую планету [системы] Йосиро
[32].
Какие же выводы можно сделать, на основании анализа всех доступных нам отрывков из самого Журнала уиллов
? Прежде всего, сам Журнал
предстает перед нами как палимпсест, имеющий сложную структуру и состоящий из разнородных материалов, принадлежащих разным авторам и записанных в разные эпохи. Его ядро, по-видимому, составляет т.н. Первая сага — текст, написанный высокопарным летописным
языком от третьего лица и повествующий о событиях, связанных с установлением режима Галактической империи и восстанием против императора и его Нового порядка. Наряду с этим в Журнал
включены и пророческие фрагменты, составленные еще более архаичным и символическим языком, местами напоминающим библейские притчи. Наконец, отдельные разделы Журнала
позволяют предполагать наличие личных свидетельств, дневниковых записей и мемуарных вставок, доказательством чему служат обрывки истории, приписываемой некоему Си-Джею Ѳорпу, написанные от первого лица. Наличие в тексте имен, содержащих аллюзии на видных героев Первой саги (Мейс Винди, Чуи-Два Ѳорп и Хан Дарделл Ѳорп) позволяет предполагать, что данный текст относится к более позднему культурному слою — возможно, отстоящему от событий саги о Скайуокерах на сотни и тысячи лет. Исходя из компилятивного характера Журнала уиллов
, мы также можем предполагать наличие в его корпусе различных метафизических размышлений о природе Силы и ее балансе, составленных как джедаями, так и иными традициями силопользователей, включающих как мистические культы и ордена, так и, возможно, отдельных адептов.
Отдельной сложной проблемой в рамках дискуссии об источниках диегетических знаний о вселенной Звездных войн
являются достаточно многочисленные материалы, обладающие явно диегетическим характером. В их число входят не только отдельные фрагменты и статьи, но и полноценные документы со всеми выходными данными (вроде Доктрины Таркина
[33] или манифеста Зов к разуму
[34]) и даже целые книги (Первый том официальной истории Восстания
[35] и приложение к нему[36], Каталог разумной жизни в галактике
сентиентолога Обо Рина[37], работы по истории и хронологии галактики за авторством исторического совета т.н. новой республики
[38] и др.).
Всё это ставит перед исследователями закономерный вопрос: должны ли мы рассматривать эти тексты как составные части обширного Журнала уиллов
— то есть как его позднейшие включения, апокрифы или приложения, — или же они являются полностью автономными диегетическими источниками, существующими независимо от главного корпуса и имеющими иное происхождение? От решения этого вопроса зависит и построение целостной картины нарративной передачи исторического знания от цивилизаций галактики Небесной реки Джорджу Лукасу.
Среди исследователей нет единого мнения на этот счет. Автор настоящей работы склоняется к первой версии, согласно которой все без исключения источники восходят к Журналу уиллов
. Теория о наличии нескольких равнозначных первоисточников и о неоднократных передачах знаний от асогийцев землянам представляется излишне усложненной и нарративно неэкономичной, нарушая принцип бритвы Оккама. Иной точки зрения придерживаются барон Вольф и мофф Мардола, полагающие, что Журнал уиллов
был всего лишь одним из каналов передачи знаний. В соответствии с их позицией, как Джордж Лукас, так и авторы Расширенной вселенной имели доступ к другим документам и фрагментам, имеющим внеземное происхождение.
После анализа Журнала уиллов
и других источников однозначно диегетического происхождения настало время вернуться к производным материалам Расширенной Вселенной, созданным авторами, не входящими в круг Джорджа Лукаса. Как уже было показано выше, еще Джозеф Бонджорно предложил считать, что редакторы по континуитету и прочие уполномоченные сотрудники компании Lucasfilm обеспечивают писателям франшизы доступ к Журналу уиллов
и иным историческим документам, следя за тем, чтобы новые произведения соответствовали уже установленной информации о галактике Небесной реки и ее истории. Однако этот механизм контроля не объясняет удивительную настойчивость самого Лукаса в утверждении, что лишь сага о Скайуокерах представляет собой истинные Звездные войны
. Мы считаем, что данное противоречие связано с вопросом достоверности источников: хотя мы не можем однозначно утверждать, что Первая сага обладает более высокой степенью детализации или исторической точности, ее статус как ядра Журнала уиллов
и личное отношение Лукаса к этому материалу делают её центральным нарративом. Таким образом, Первая сага сохраняет приоритет и выступает фундаментом диегетической структуры, несмотря на богатство и разнообразие повествований Расширенной Вселенной.
Мы можем допустить, что многие сюжеты из Журнала уиллов
, выходящие за рамки Первой саги, имеют разнородное происхождение и функциональное назначение. С одной стороны, часть из них может быть связана с личными свидетельствами или дневниковыми записями, передающими субъективные переживания и взгляды отдельных участников событий и их потомков. Такие материалы зачастую дают более камерный и локальный взгляд на историю, фокусируясь на частных конфликтах, личных мотивациях и менее значимых с точки зрения глобального нарратива эпизодах. В силу своей избирательности и фрагментарности эти источники могут представлять интерес лишь для узкого круга специалистов. С другой стороны, многие материалы в корпусе Журнала
могут представлять собой не более чем краткие исторические справки и анналы — своего рода энциклопедические
вставки, которые служат важным контекстуальным фоном для понимания масштабов и хронологии галактических событий, но явно недостаточные для их развертывания в полноценные истории без ущерба для достоверности.
Если принять эту гипотезу, становится ясно, что Джордж Лукас, стремившийся к максимальной достоверности повествования и точному соответствию первоисточникам, мог весьма осторожно относиться к произведениям авторов Расширенной вселенной. Хотя они и работали с теми же материалами, ограниченность и фрагментарность данных вынуждали их активнее прибегать к гипотезам и достраиванию
фактов, что очевидным образом снижало научную (и диегетическую) ценность их работ. Таким образом, если привести аналогию, произведения Джорджа Лукаса можно рассматривать как полноценные исторические исследования, тогда как произведения других авторов франшизы — это скорее исторические романы, пускай и написанные на довольно высоком уровне.
Наконец, нельзя забывать и факторе контаминации произведений земной
политической и идеологической повесткой. Джордж Лукас, будучи истинным визионером, избегал прямых аллюзий на современную ему политику, предпочитая работать с архетипами, создавая универсальный миф, не вызывающий явного отторжения у представителей различных политических лагерей. Его собственные высказывания на эту тему (о том, что Звездные войны
всегда касались политики, что эвоки на Эндоре были аллюзией на вьетнамцев, разбивших более технически оснащенного врага, что Нут Ганрей был аллюзией на президента Никсона и т.д.) зачастую звучат как оправдания: это извинения прогрессивного
кинорежиссера перед еще более прогрессивной
публикой за то, что вместо создания политической драмы о войне во Вьетнаме и американском потерянном поколении
он создал космическую сагу о принцессах, волшебниках и приключениях.
Однако в отличие от Лукаса лишь немногие авторы Расширенной вселенной, работая с теми же источниками, могли заставить себя сохранять подобный нейтралитет и беспристрастность. Их произведения порой демонстрируют явные следы влияния текущих политических и социальных событий Земли, что может проявляться в весьма вольной интерпретации Журнала уиллов
и других диегетических материалов. Такая контаминация
способна искажать первоисточник, превращая повествование в своеобразную аллегорию современных проблем и конфликтов, снижая диегетическую чистоту и историческую достоверность. Яркими примерами данной проблемы служат роман Меч тьмы
Кевина Дж. Андерсона[39] и роман Лабиринт зла
Джеймса Лучено[40].
В Мече тьмы
автор демонстрирует явную склонность к переупрощению сложных политических процессов, превращая их в аллегории, прямо соотносимые с земными реалиями конца XX века. По признанию самого Андерсона, роман задумывался как размышление о проблеме распространения ядерного оружия, ставшей особенно актуальной после распада СССР и сопровождавшейся на Западе страхами, что боеголовки могут попасть в руки криминальных группировок. Наиболее показательным с диегетической точки зрения примером недостоверности является эпизод с Криксом Мейдином — бывшим главой разведки Новой Республики, министром армии и командующим спецоперациями, — который, по сюжету, отправляется устранить хаттскую угрозу в сопровождении всего двух спецназовцев. Разумеется, вся группа гибнет. С точки зрения внутренней логики галактики, представить себе высокопоставленного военного чиновника, действующего без прикрытия, невозможно. Подобный сюжетный ход не выдерживает критики ни как политически обоснованное решение, ни как достоверное свидетельство исторического источника. Его можно объяснить лишь стремлением автора к созданию драматического эффекта в ущерб диегетической правдоподобности.
Если же допустить, что автор действительно опирался на какой-то фрагмент Журнала уиллов
или иного документа, возникает соблазн рассматривать этот эпизод как сознательно искаженную версию событий, возможно, пущенную в оборот руководством новой республики
. Такая интерпретация открывает широкий простор для реконструкции возможной правды: может быть, Мейдин действительно был ликвидирован в Хаттском пространстве — но вовсе не по причине героической миссии, а в результате внутриполитических конфликтов или личных дел. Отправился ли он на задание добровольно, или стал жертвой внутренних интриг? Умер ли в бою, или от передозировки глиттерстимом на Нар-Шаддаа, куда отправился отдохнуть
? Может быть, он стал жертвой политического убийства из-за борьбы в верхах новой республики
, а его гибель была постфактум списана на хаттов? Этого мы никогда не узнаем.
В случае с романом Лучено ситуация приобретает еще большую сложность. Известный своим стремлением к политической и социальной тематике, леволиберал Лучено интерпретирует позднюю республиканскую администрацию Палпатина через призму современных американских политических процессов, особенно связанных с эпохой правления Джорджа Буша-младшего. Его трактовка поздней администрации Палпатина как своего рода космических республиканцев
отражает все страхи и комплексы левого крыла американской интеллигенции перед усилением государственного контроля, ограничением гражданских свобод, созданием новых силовых структур и т.д. Такая политическая аллюзия обогащает тексты Лучено актуальными социальными смыслами, способствуя формированию более реалистичного
и современного образа политической власти в галактике Небесной реки, однако с диегетической точки зрения это означает отступление от первоисточника и введение в нарратив современных земных контекстов. В результате Палпатин перестает быть темным владыкой
, существующим в рамках собственных целей и установок, превращаясь в Джорджа Буша на максималках
.
К сожалению, схожие обвинения можно выдвинуть в адрес многих авторов Расширенной вселенной. Всё это заставляет исследователя крайне осторожно подходить к анализу любых производных материалов, тщательно сверяя их с произведениями Дж. Лукаса и доступными нам диегетическими источниками, вычищая контаминированные отрывки и давая им трактовку, более соответствующую реалиям галактики Небесной реки. Это приводит нас к довольно неожиданному результату: отказавшись от следования в русле официальной политики компании Lucasfilm и их корпоративной лестницы канона
ради выстраивания собственной иерархии достоверности, мы сделали полный круг и вернулись к делению источников на канон
и апокрифы
. Теперь, однако, это деление основано на внутренней логике Звездных войн
, степени близости к первоисточнику и реконструированной истории его обретения.
Прямым следствием нашего подхода, помимо прочего, является отказ от концепции всеведущего рассказчика
(omniscient narrator), присутствующего практически во всех романах Расширенной вселенной. Под этим термином принято понимать повествователя, обладающего безграничным знанием о событиях, героях, их мыслях, чувствах и мотивациях, а также способного свободно перемещаться во времени и пространстве, включая как прошлое, так и будущее. Такой рассказчик не только сообщает факты, но и комментирует их, выносит суждения, предлагает интерпретации, зачастую не указывая источник своих знаний, навязывая читателю единственно правильную
трактовку событий. С диегетической точки зрения подобная модель изложения вызывает закономерные сомнения. Мы не можем признать допустимой в рамках реконструкции истории галактики Небесной реки перспективу, которая не имеет четкой привязки к источнику, а значит, не поддаётся верификации. Отсутствие конкретного носителя информации, будь то персонаж, документ или хронист, превращает подобный нарратив в диегетическую фикцию — в форму литературной обработки, не подлежащую включению в корпус подлинных исторических свидетельств. Иначе говоря, всеведущий рассказчик — это не информант, а интерпретатор, и его присутствие в тексте снижает диегетическую достоверность материала.
В этой связи мы предлагаем исследователям следующее методологическое правило: любая нарративная детализация в производных материалах (романах, комиксах и иных произведениях, созданных сторонними авторами) должна соотноситься с имеющимися диегетическими источниками — фрагментами Журнала уиллов
, официальными хрониками, документами, пророчествами и иными текстами, исходящими изнутри
галактики Небесной реки. В случае, если сообщаемые сведения не опираются на уже зафиксированную в достоверных источниках информацию, мы имеем полное право трактовать ее как гипотезу, литературную реконструкцию или вовсе позднейшее искаженное предание.
Таким образом, степень исторической достоверности любого элемента повествования прямо пропорциональна количеству и характеру диегетических подтверждений. Это позволяет нам выстраивать иерархию доверия к различным сюжетным элементам, отделяя исторически правдоподобное от литературно-фантастического, и возвращая нас к понятию канона
, но уже выстроенного не в маркетинговой или юридической логике компании Lucasfilm, а в рамках реконструкции внутренней логики самой галактики Звездных войн
.
Подводя итог нашей работы, мы предлагаем вниманию читателей следующую классификацию всех источников по степени их диегетической достоверности — то есть степени соотнесенности с реалиями воображаемого мира галактики Небесной реки. Основанием для данной классификации служат как реконструированные особенности первоисточника (Журнала уиллов
), так и сформулированный нами принцип соотношения нарративной детализации с источниковой поддержкой. Мы исходим из того, что не все тексты, относящиеся к франшизе Звездных войн
, обладают равным статусом внутри диегеза: одни являются непосредственными отражениями подлинных событий — или их интерпретаций — самими обитателями галактики Небесной реки, другие представляют собой более поздние трактовки, литературные переработки или даже свободные спекуляции земных авторов. Одни из них в большей степени контаминированы земной повесткой
, другие — в меньшей. Задача исследователя — определить степень этой контаминации, выявить цели, установки и предубеждения автора и, в конечном итоге, максимально точно реконструировать изложенные в источнике факты. Предлагаемая ниже система не отрицает культурной или эстетической ценности того или иного материала, но призвана обозначить его историческую релевантность в рамках реконструкции подлинной хроники далекой-далекой галактики
.
1. Канон, он же первоисточник (Журнал уиллов
)
Единственный источник, обладающий максимально возможной степенью диегетической достоверности. В рамках нашей интеллектуальной игры, именно он был получен Джорджем Лукасом в результате контакта с представителями асогийской цивилизации. С точки зрения диегетики, все материалы, созданные самим Лукасом (в первую очередь — шесть эпизодов саги о Скайуокерах), следует рассматривать как прямую адаптацию т.н. Первой саги Журнала уиллов
, прошедшую, возможно, минимальную культурную локализацию, но при этом сохраняющую ключевые элементы, структурные смыслы и общую историческую канву галактики Небесной реки. Именно эти произведения служат для нас точкой отсчета при критической оценке достоверности любых других источников.
2. Второканонические материалы (прочие источники диегетического происхождения)
К этой категории относятся все материалы, написанные или составленные от имени самих персонажей или структур галактики Небесной реки, то есть выдержанные с внутривселенской, диегетической точки зрения. Несмотря на свой диегетический характер, степень достоверности данных материалов варьируется. Многие из них нуждаются в критической оценке. На первый план здесь выступает внутренняя критика источника — анализ идеологических установок, политических или культурных целей, которые могли повлиять на подачу информации и ее достоверность (многие из текстов в данной категории явно отражают идеологические позиции своих авторов или спонсирующих институтов). Читатель заметит, что мы использовали для наименования данной категории материалов термин второканонический
. Подобно тому, как термины канон
и апокрифы
проникли в анализ вымышленных вселенных из библеистики, мы также решили использовать богословский термин, обозначающий книги Библии, включенные в канон позднее остальных, но не являющиеся при этом апокрифами. Эти материалы занимают промежуточное положение — они признаются значимыми, но не обладают при этом той же авторитетностью, что Журнал уиллов
. Полагаем, что такое деление помогает сохранить уважение к их диегетическому происхождению материалов, при этом оговаривая необходимость тщательной критической работы с ними и осторожного отношения к содержащейся в них информации.
3. Апокрифы (производные материалы)
Наиболее обширная и разнородная категория, включающая романы, графические новеллы, комиксы, сценарии видеоигр и т.д. Эти произведения, как правило, создавались на основе фрагментов первоисточника и иных диегетических материалов, но при этом они подверглись значительной литературной переработке земными авторами. В подавляющем большинстве случаев они опираются на принцип всеведущего рассказчика, чья перспектива не обоснована диегетически. По этой причине эти материалы следует рассматривать как вторичные и интерпретационные; они требуют сверки с каноном и второканоническими источниками и могут использоваться в научной реконструкции только после фильтрации, выявления интерпретационных слоев и устранения элементов, обусловленных внедиегетическими влияниями (политическими, культурными и т.д.), а также учета аудитории, на которую было рассчитано то или иное произведение. Работы, ориентированные на детей и подростков по самоочевидным причинам обладают меньшей степенью достоверности, чем тексты, созданные для взрослых читателей (ярким примером служит цикл детских романов Пола и Холлис Дэвидс Звездные войны: принц-джедай
, который в рамках нашего подхода может быть интерпретирован как детские сказки, некогда рассказанные принцессой Леей своим детям[41], впоследствии записанные и, возможно, вошедшие в корпус Журнала уиллов
).
4. Слухи и легенды
Сюда мы включаем все материалы, не претендующие на диегетическую достоверность, но тем не менее оказывающие влияние на восприятие и интерпретацию канона. Это могут быть интервью с Джорджем Лукасом, комментарии продюсеров, редакторов по континуитету и сотрудников Lucasfilm, различные маркетинговые материалы, публикации в пресс-релизах, статьи на официальных сайтах и т.п. С точки зрения исторической реконструкции мира галактики Небесной реки, эти источники представляют собой метатекстуальные свидетельства и не могут служить самостоятельным основанием для утверждения какой-либо диегетической информации. Тем не менее они могут быть использованы в качестве вспомогательных материалов — например, для оценки мотивации интерпретаторов, понимания причин искажений в производных текстах или выявления маркетинговых конъюнктур, повлиявших на повествовательные решения.
5. Традиция
Последнюю ступень в нашей классификации занимает фанатская интерпретативная традиция, уходящая корнями в 1970-е годы[42]. Это совокупность объяснительных моделей, хронологических реконструкций, логических интерполяций, теорий и гипотез, порожденных сообществом исследователей с целью устранения несостыковок, пробелов и противоречий в официальных материалах. Эта категория включает фанатские базы данных и энциклопедии, форумные теории, отдельные головные каноны
, приобретшие популярность и общественное признание (например, головной канон Публия) и т.д. Несмотря на формальную неавторитетность
, традиция играет важную роль в формировании массового представления о вселенной. При этом с точки зрения диегетической критики фанатские материалы являются наименее достоверными, поскольку они не только далеки от первоисточника, но и часто основываются на компиляции производных и маркетинговых текстов без должной источниковой фильтрации. Между тем некоторые материалы, такие как сайт доктора Кёртиса Сакстона с его методологически выверенным анализом и интерпретацией реалий галактики Небесной реки, выделяются на общем фоне тщательностью и ответственным подходом к первоисточникам. В любом случае, несмотря на ограниченное значение для реконструкции диегеза, фанатская традиция заслуживает изучения как самостоятельный феномен рецепции и культурного влияния.
* * * * *
Завершая нашу работу, подчеркнем, что предложенная классификация источников — не закрытая система, а инструмент для дальнейших исследований. Подобно тому, как археологи восстанавливают утраченную цивилизацию по обрывкам текстов, артефактам и фрагментам устных преданий, исследователь галактики Небесной реки должен проявлять критичность, методологическую строгость и уважение к тексту. Мы осознанно отказались от безоговорочного следования лестнице канона
и официальной позиции Lucasfilm, сделав ставку на внутреннюю логику диегетического мира и текстологический анализ. Этот путь не только позволяет освободиться от навязанных внешних рамок, но и открывает более глубокое, подлинно историософское понимание Звездных войн
не просто как успешной космооперы, но как реконструируемой хроники иной цивилизации.
Подобно археологам, восстанавливающим давно ушедшие цивилизации по фрагментам письменных и материальных артефактов, исследователь Звездных войн
сталкивается с проблемой обрывочности и неоднозначности информации. Декартовское cogito, ergo sum — Мыслю, следовательно, существую
— здесь приобретает расширенный смысл: мы не просто фиксируем данные, а активно реконструируем повествование, созидая смысл там, где он частично утрачен или скрыт. Используя предложенную методологию, мы приближаемся к пониманию Звездных войн
не просто как линейного повествования, а как сложной мозаики историй, культур и мифов, переплетённых в пространстве и времени.
Конрад Дитрих, dr.iur.
7 марта 2011
Список источников
- Anderson, Kevin J. Darksaber. Bantam Spectra, 1995.
- Anderson, Kevin J, Wallace, Daniel. The Essential Chronology. Del Rey Books, 2000.
- Anderson, Kevin J, Wallace, Daniel. The New Essential Chronology. Del Rey Books, 2005.
- Bouzereau, Laurent. Star Wars: The Annotated Screenplays. Del Rey, 1997.
- Boyd, John D., S.J. The Function of Mimesis and Its Decline. Harvard University Press, 1968.
- Brundage, Anthony. Going to the Sources. A Guide to Historical Research and Writing. 4th Edition. Wiley-Blackwell, 2007.
- Canter, David V. et al. Narrative Plausibility: The Impact Sequence and Anchoring // Behavioral Sciences and the Law 21. John Wiley & Sons, Ltd., 2003.
- Clark, Bev. Letter by January 24, 1984 // Southern Enclave. Vol. 1, No. 3, March 1984.
- Davids, Paul, Davids, Hollace. Mission from Mount Yoda. Bantam Skylark, 1993.
- Davids, Paul, Davids, Hollace. Prophets of the Dark Side. Bantam Skylark, 1993.
- Davids, Paul, Davids, Hollace. The Glove of Darth Vader. Bantam Skylark, 1992.
- Davids, Paul, Davids, Hollace. The Lost City of the Jedi. Bantam Skylark, 1992.
- Davids, Paul, Davids, Hollace. Queen of the Empire. Bantam Skylark, 1993.
- Davids, Paul, Davids, Hollace. Zorba the Hutt's Revenge. Bantam Skylark, 1992.
- DeMaria, Rusel. The Farlander Papers. 1993.
- Denning, Troy. Galaxy Guide 9: Alien Races. West End Games, 1994.
- Denzin, Norman. Sociological Methods: A Sourcebook. 5th Edition. Aldine Transaction, 2006.
- Doležel, Lubomír. Possible Worlds of Fiction and History // New Literary History. Vol. 29, No. 4. Autumn, 1998.
- Helander, Jan. The Development of Star Wars — As Seen Through the Scripts by George Lucas, Luleå University of Technology, 1997.
- HoloNet News Vol. 531 50 / Senator Grebleips to fund extragalactic survey // http://www.holonetnews.com/50/ .
- Foster, Alan Dean. Classic Star Wars: Splinter of the Mind's Eye. N.Y., A Del Rey Book. Ballantine Books, 1994.
- Fry, Jason, Wallace, Daniel. The Essential Atlas. Del Rey, 2009.
- Gorden, Greg. Imperial Sourcebook, 2nd Edition. West End Games, 1994.
- Jenkins, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. N.Y., New York University Press, 2006.
- Jenkins, Henry. Transmedia Storytelling 101 // https://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html .
- Kotzwinkle, William. E.T.: The Book of the Green Planet. N.Y., Berkley Books, 1985.
- Lewis, David. On the Plurality of Worlds. Wiley-Blackwell, 1986.
- Look, Brandon C. Leibniz's Modal Metaphysics. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2008 // https://plato.stanford.edu/ .
- Lucas, George. Star Wars: Episode I — The Phantom Menace. 20th Century Fox, 1999.
- Lucas, George. Star Wars: From the Adventures of Luke Skywalker. N.Y., A Del Rey Book. Ballantine Books, 1976.
- Luceno, James. Labyrinth of Evil. Del Rey, 2005.
- Murphy, Paul. Rebel Alliance Sourcebook, 2nd Edition. West End Games, 1994.
- Pavel, Thomas G. Fictional Worlds. Harvard University Press, 1986.
- Ranke, Leopold von. Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514. G. Reimer, 1824.
- Ranke, Leopold von. The Secret of World History. Selected Writings on the Art of Science of History. Fordham University Press, 1981.
- Ranke, Leopold von. Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber. G. Reimer, 1824.
- Rinzler, Jonathan W. The Making of Star Wars: The Definitive Story Behind the Original Film. Ballantine Books, N.Y., 2007.
- Rinzler, Jonathan W. Unknown Origins // Star Wars Insider 92. IDG Entertainment, 2007.
- Ronen, Ruth. Possible Worlds in Literary Theory. Cambridge University Press, 1994.
- Russell, Bertrand. On Denoting. Mind, 14. Oxford University Press, 1905.
- Slavicsek, Bill. Death Star Technical Companion, 1st Edition. West End Games, 1991.
- Slavicsek, Bill, Carter, Michele. Prophets of the Dark Side: Villains for the Star Wars: New Republic Campaign, Part One. // Polyhedron 103. TSR, Inc., 1994.
- Spielberg, Steven. E.T. the Extra-Terrestrial. Universal Pictures, 1982.
- Spielberg, Steven. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Paramount Pictures, 2008.
- Spielberg, Steven. Raiders of the Lost Ark. Paramount Pictures, 1981.
- Steiner, George. After Babel: Aspects of Language and Translation. Oxford University Press, 1975.
- Walton, Kendall. Mimesis as Make-Believe: On the Foundations of the Representational Arts. Harvard University Press, 1990.
- White, Hayden. The Content of the Form. Narrative, Discourse and Historical Representation. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1987.
- Zerweck, Bruno. Historicizing Unreliable Narration: Unreliability and Cultural Discourse in Narrative Fiction // Style. Vol. 35, No. 1, Themes and Means, Spring, 2001.
- Аристотель. Об искусстве поэзии / Пер. В.Г. Аппельрота. М., 1893.
- Баранов, Н.Н. Леопольд фон Ранке: историк и его метод // Россия и мир: панорама исторического развития: сборник научных статей, посвященный 70-летию исторического факультета Уральского государственного университета. Волот, 2008.
- Больцано, Бернард. Учение о науке (избранное). СПб., Наука, 2003.
- Бонджорно, Джозеф. Вымысел внутри вымысла: исторический подход к саге о
Звездных войнах
// https://koriana.neocities.org/apopsis/fiction_within_fiction.html . - Брентано, Франц. Избранные работы. М., Дом интеллектуальной книги, 1996.
- Виноходов, Д.О. Подходы к изучению текстов Толкина. Палантир №21. СПб., 2000.
- Виноходов, Д.О. Толкинистика — принципы и проблемы методологии. Палантир №30. СПб., 2002.
- Вонг, Майкл. Как анализировать научную фантастику? // https://koriana.neocities.org/apopsis/scifi_analysis.html .
- Галковский, Д.Е. ЖЖ. 290. ПЛЯСКА БЁДЕР. Комментарий от 21.08.2006 // http://galkovsky.livejournal.com/74556.html .
- Девятко, И.Ф. Методы социологического исследования. Изд-во Уральского университета, 1998.
- Делёз, Жиль. Тысяча плато: капитализм и шизофрения. / Пер. Я.И. Свирского. Екатеринбург, У-Фактория, Астрель, 2010.
- Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. / Пер. М.Л. Гаспарова. М., Мысль, 1986.
- Карнап, Рудольф. Преодоление метафизики логическим анализом языка / Пер. А.В. Кезина // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. №6. 1993.
- Крипке, Саул. Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке / Пер. В. А. Ладова, В. А. Суровцева / Под об. ред. В. А. Суровцева. М.,
Канон+
, 2010. - Крипке, Саул. 1) Теорема полноты в модальной логике; 2) Неразрешимость одноместного модального исчисления предикатов; 3) Семантический анализ модальной логики, ч. 1—2 // Фейс Р. Модальная логика. М., 1974.
- Кроче, Бенедетто. История и история историографии / Пер. И.М. Заславской. М., Школа
Языки русской культуры
, 1998. - Лаппо-Данилевский, А.С. Методология истории в 2-х т. Т.1. М., РОССПЭН, 2010.
- Лаппо-Данилевский, А.С. Методология истории в 2-х т. Т.2. М., РОССПЭН, 2010.
- Лейбниц, Готфрид. Опыт теодицеи // Сочинения в 4-х томах. Том 4. М., Мысль, 1989.
- Листов, В.С. О критике кинодокументальных источников (по материалам советских киносъёмок 1917-1920 гг.) // Археографический ежегодник за 1969 год. Наука, 1971.
- Майнонг, Алексиус. О теории предметов // Эпистемология и философия науки. 2011. Т. XXVII. №1.
- Медушевская, О.М. Источниковедение: теория, история, метод. Изд-во РГГУ, 1996.
- Минц, М.М. Теория и методология толкинистики. Палантир №63. СПб., 2011.
- Публий. О методологии // https://koriana.neocities.org/apopsis/on_methodology.html .
- Публий. О полилингвизме // https://koriana.neocities.org/apopsis/on_polylingualism.html .
- Рикёр, Поль. Время и рассказ. Том 1. М., СПб., ЦГНИИ ИНИОН РАН, 2000.
- Рикёр, Поль. Время и рассказ. Конфигурации в вымышленном рассказе. Том 2. М., СПб., ЦГНИИ ИНИОН РАН, 2000.
- Рикёр, Поль. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., Академический проект, 2008
- Саар, Г.П. Источники и методы исторического исследования. Изд-во АзГНИИ, 1930.
- Сакстон, Кёртис, д-р. Континуитет, канон и апокрифы // https://koriana.neocities.org/apopsis/continuity.html .
- Суровцев, В.В., Ладов, В.А. Витгенштейн и Крипке: следование правилу, скептический аргумент и точка зрения сообщества. Томск, Издательство Томского университета, 2008.
- Татару, Л.В. Когнитивная логика нарратива. Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2008.
- Тихомиров, М.Н. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в. Т.1. Госсоцэкономиздат, 1940.
- Уайт, Хейден. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2002.
- Хинтикка, Яакко. Логико-эпистемологические исследования / Под об. ред. В.Н. Садовского и В.А. Смирнова. М., Прогресс, 1980.
- Цицерон, Марк Тулий. Три трактата об ораторском искусстве. М., Наука, 1972.
- Шмид, В. Нарратология. М., Языки славянской культуры, 2003.
Примечания
[1] В конечном счете истоки как всегда уходят к грекам. В письме к Пиѳоклу Эпикур учил следующему: Мир (κόσμος) есть область неба (οὐρᾰνός), заключающая в себе светила, землю и все небесные явления; если он разрушится, все придет в смешение. Он отделен от бесконечности (ἄπειρον) и заканчивается границей, которая может быть как плотной, так и редкой, как вращающейся, так и неподвижной, как круглой, так и треугольной или каких угодно очертаний; все это одинаково приемлемо, потому что одинаково не противоречит ничему в этом мире, граница которого для нас недоступна. Нетрудно понять, что таких миров может быть бесконечное количество и что такой мир может возникнуть как внутри другого мира, так и в междумирии (так мы называем промежуток между мирами), в месте, где пустоты много, но не
(цит. по Диогену Лаэртскому в большом пространстве, совершенно пустом
, как утверждают некоторыеО жизни, учениях и изречениях знаменитых философов
, книга X)
[2] Монады — простые субстанции (от греч. μονάδος — единица), являющиеся основаниями существующих явлений (феноменов) и обладающие качествами, отличающими одну монаду от другой до такой степени, что не может существовать двух идентичных монад
[3] Увидев термин представление в себе
(Satz an Sich) читатель может вспомнить о кантовском понятии вещи в себе
(Ding an Sich) и предположить, что Больцано был кантианцем. Это не так. Бернард Больцано был последовательным критиком Иммануила Канта и кантианства как такового
[4] Наверное, не лишним будет упомянуть о том, что Больцано был последователем Лейбница. Таким образом мы видим формирование линии мысли и своеобразной традиции Лейбниц-Больцано-Майнонг, хотя прямое влияние идей Лейбница на Майнонга и не прослеживается
[5] По Брентано интенциональность (от лат. intentio — направленность к чему-либо) есть направленность всякого психического акта на нечто реальное или нереальное
[6] Читателям он, возможно, знаком своей Историей западной философии
[7] Модальные оценки (иначе модальные операторы или модальные характеристики) используются в модальной логике для оценки истинности суждений и ситуаций
[8] Lewis, David. On the Plurality of Worlds. Wiley-Blackwell, 1986. P.2
[9] Согласно The Essential Atlas (2009 г.) вторгшиеся в Далекую-далекую галактику нагаи именовали ее Небесной рекой
. Эта информация также была продублирована в статье Джеймса Макфаддена The Forgotten War: The Nagai and the Toff (2009 г.)
[10] Немного неуклюжий перевод. В оригинале Д. Льюис использовал бы термин Counterpart
[11] Полагаем, уместным также является перевод данной концепции как понарошку
[12] Термин мимесис
(от др.-греч. μίμησις — подобие, подражание) восходит к Аристотелю, сформулировавшему в Поэтике
(Περὶ ποιητικῆς) данный принцип, сводящийся к врожденной способности человека подражать действительности. Через это подражание в искусстве мимесис воспроизводит универсальные закономерности, позволяя познать истину и создавая условия для катарсиса — эмоционального очищения через сопереживание
[13] Виноходов, Д.О. Толкинистика — принципы и проблемы методологии. Палантир №30. СПб., 2002
[14] Отсюда и довольно избитая формула: historia magistra vitae est (история — наставница жизни
)
[15] Ranke, Leopold von. Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514. G. Reimer, 1824. Ss.v-vi
[16] В самом деле, так как всякий источник — реализованный продукт человеческой психики, то историк может сказать, что такой самостоятельный продукт (поскольку он обладает характерными особенностями, отличающими его от произведения природы) вместе с тем оказывается результатом целеполагающей деятельности человека или намеренным его продуктом
(Лаппо-Данилевский, А.С. Методология истории в 2-х т. Т.2. М., РОССПЭН, 2010. С.79)
[17] Интересно в этой связи замечание А.С. Лаппо-Данилевского, считавшего, что исторический факт устанавливается не в процессе критики источника, но в процессе его интерпретации
[18] Галковский, Д.Е. ЖЖ. 290. ПЛЯСКА БЁДЕР. Комментарий от 21.08.2006
[19] Рикёр, Поль. Время и рассказ. Том 1. М., СПб., ЦГНИИ ИНИОН РАН, 2000. С.203
[20] Интересующихся данным феноменом мы отсылаем к работе Генри Дженкинса Convergence Culture: Where Old and New Media Collide (хотя и не рекомендуем знакомство с нею)
[21] В действительности, конечно, Лукас использовал для написания романа на основе сценария фильма литературного негра, в роли которого выступил Алан Д. Фостер
[22] Lucas, George. Star Wars: From the Adventures of Luke Skywalker. N.Y., A Del Rey Book. Ballantine Books, 1976. P.1
[23] Бонджорно, Джозеф. Вымысел внутри вымысла: исторический подход к саге о Звездных войнах
[24] Напомним читателям, что по словам самого Дж. Лукаса первый фильм оригинальной трилогии соответствовал тому, что он задумывал и хотел показать, лишь на 25% (из интервью журналу Rolling Stone от 25 августа 1977 г.)
[25] HoloNet News Vol. 531 50 / Senator Grebleips to fund extragalactic survey. See NEWS E 15
[26] Не в изначальном значении термина как текста, нанесенного на пергамент, с которого предварительно был удален прежний слой письма, а в расширенном смысле — как сложноорганизованного, многослойного и многокомпонентного произведения, в котором различные уровни нарратива, жанровые регистры и семантические коды наслаиваются друг на друга, образуя комплексную структуру смыслов
[27] Helander, Jan. The Development of Star Wars — As Seen Through the Scripts by George Lucas, Luleå University of Technology, 1997
[28] Foster, Alan Dean. Classic Star Wars: Splinter of the Mind's Eye. N.Y., A Del Rey Book. Ballantine Books, 1994
[29] Бонджорно, Джозеф. Вымысел внутри вымысла: исторический подход к саге о Звездных войнах
[30] Rinzler, Jonathan W. The Making of Star Wars: The Definitive Story Behind the Original Film. Ballantine Books, N.Y., 2007. P.
[31] Там же
[32] Там же
[33] Slavicsek, Bill. Death Star Technical Companion, 1st Edition. West End Games, 1991. Pp.8-10
[34] DeMaria, Rusel. The Farlander Papers. 1993. Pp.15-32
[35] Murphy, Paul. Rebel Alliance Sourcebook, 2nd Edition. West End Games, 1994. P.5
[36] Gorden, Greg. Imperial Sourcebook, 2nd Edition. West End Games, 1994. P.6
[37] Denning, Troy. Galaxy Guide 9: Alien Races. West End Games, 1994. P.3
[38] Anderson, Kevin J, Wallace, Daniel. The Essential Chronology. Del Rey Books, 2000. P.xiii и Anderson, Kevin J, Wallace, Daniel. The New Essential Chronology. Del Rey Books, 2005. P.xv
[39] Anderson, Kevin J. Darksaber. Bantam Spectra, 1995
[40] Luceno, James. Labyrinth of Evil. Del Rey, 2005
[41] Оговоримся, что мы не первые предложили подобное прочтение произведений цикла Принц-джедай
: до нас это уже делали авторы статьи Prophets of the Dark Side: Villains for the Star Wars: New Republic Campaign, Part One в журнале Polyhedron
[42] Предложение включить наработанную фанатскую традицию в канон впервые было выдвинуто Беверли Кларк уже в 1984 г.